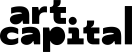«Абсолютное зрение». Статья об Алексее Меринове
Алексей Меринов родился на юго-западной окраине Курска в деревне Любицкое (Курчатовский район) 8 марта 1942 года. Первые месяцы жизни провёл в оккупации. Несколько дней вместе с матерью находился в группе женщин и детей, которыми немцы прикрывали своё поспешное отступление. Всё обошлось.
О призвании живописца узнал довольно поздно. Спусковым механизмом послужил забавный инцидент, произошедший в 8 классе. Что-то пошло не так с выпуском школьной стенгазеты – выяснилось, газету делает не сам Алексей, а его мама. Следующим эпизодом биографии будущего художника стало решение поступить в Курское художественное училище. Потребовалось всего несколько занятий, чтобы неофит, никогда не державший кисти в руке, схватил азы и успешно сдал вступительный экзамен.
В училище он жадно впитывает всё, что связано с профессией, и полностью пренебрегает остальными предметами. Всецелое погружение в живопись и нежелание отвлекаться даже на самые насущные вопросы быта характерно для него на протяжении всей жизни. Эта особенность часто играла с ним злую шутку, но и помогала в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях.
Через полгода Алексея отчислили за неуспеваемость – он попросту не ходил на общеобразовательные предметы. Начался период мытарств, которые он вспоминал со смехом, но и с искренним изумлением. Несколько месяцев ему удавалось скрывать произошедшее от родителей, вместо занятий он уходил в лес, где проводил время до вечера. Когда дело прояснилось, отец устроил его на закрытое предприятие художником. Появилась трудовая книжка, режим был благоприятный. Однако вскоре, никого не предупредив ни на работе, ни дома, Алексей уехал в другой город (кажется, Ростов-на-Дону), где без экзаменов был принят на первый курс местного художественного училища.
Здесь он задержался не долго. Преподаватели, по его словам, оказались не интересными, учиться было не у кого. Вернувшись в Курск, он, как ни в чём не бывало, появляется на своём рабочем месте на закрытом режимном предприятии. Не нужно объяснять, какая запись украсила его трудовую книжку, оставалось только спустить её в унитаз, что он и сделал по совету одного умного человека.
 Ещё какое-то время Алексей проводит дома, работая на различных предприятиях, в частности, стропальщиком на стройке. Произнося это слово, он делал ударение на втором слоге и заменял «п» на «б»: «стробальщик». Смесь иронии и гордости. Вообще, всё, не связанное с живописью, вызывало в нём что-то вроде недоумения. Позже, поселившись в Крыму, он пробовал разные профессии, работал оформителем в Ялте (1971-1972 гг.). И сейчас, много лет спустя, на прочной стене из диабаза у западного конца ялтинской набережной можно видеть надпись, сделанную его рукой: «купаться запрещено».
Ещё какое-то время Алексей проводит дома, работая на различных предприятиях, в частности, стропальщиком на стройке. Произнося это слово, он делал ударение на втором слоге и заменял «п» на «б»: «стробальщик». Смесь иронии и гордости. Вообще, всё, не связанное с живописью, вызывало в нём что-то вроде недоумения. Позже, поселившись в Крыму, он пробовал разные профессии, работал оформителем в Ялте (1971-1972 гг.). И сейчас, много лет спустя, на прочной стене из диабаза у западного конца ялтинской набережной можно видеть надпись, сделанную его рукой: «купаться запрещено».
В какой-то момент, положение стало невыносимым. В морозную декабрьскую ночь 1965 года (дата требует подтверждения, возможно, это было несколько раньше) Алексей пришёл на вокзал и взял билет до Симферополя. Был, как он говорил, и другой вариант – Одесса, но прямые поезда из Курска туда не шли. В ушанке и тёплом зимнем пальто, нагруженный охапкой картонов и холстов, он появился в Училище имени Самокиша. Стояла аномальная жара, учебный год был в разгаре.
И здесь судьба, наконец, улыбнулась ему. Кто-то из преподавателей обратил внимание на растерявшегося героя: его способности оценили по достоинству, приняли на третий курс и позволили работать, как он хочет.
Крымский период жизни Алексея Меринова (1965-1984) отмечен определяющими событиями. По окончании училища его принимают в Художественный Фонд, он получает мастерскую, соседствовавшую с кабинетом председателя Союза художников (не будучи членом Союза). За четыре года Алексей заполнил мастерскую холстами. Сейчас от работ того времени остались крохи.
С Алексеем мне довелось познакомиться в сентябре 2009 года в Алупке на учебной базе Репинского института. В конце студенческой практики на освободившееся место приезжает кое-кто из художников, правда, в последние годы всё реже. Как сейчас вижу его натягивающим холсты не при помощи степлера, а по-старинке, посредством молотка и мелких гвоздей. На полу большой комнаты в луже воды грунтом вниз плавало безразмерное полотнище «итальянки».
Нельзя сказать, что живопись его понравилась мне с первого взгляда. Работы, написанные сразу по приезде, казались глуховатыми, излишне синими. Присутствовавший в то время на базе питерский художник Рашид Адгамов также не выразил энтузиазма. Однако прошло немного времени, и живопись Алексея раскрылась во всей своей спокойной силе и подлинной красоте. Она не была многословной и, что особенно удивляло, совсем не ждала отклика, не торопила восторгов, не нагружала эмоционально. В соседстве с жизнерадостным письмом Р. Адгамова его этюд казался простым, не достаточно «вкусным». Но вопреки всему ты продолжал на него смотреть, угадывал живущую в нём стихию, узнавал ритмы, созвучные движениям самой природы.
В Алупку Алексей приезжал два года подряд. Ярче всего памятен 2010 год. Три раза я наблюдал за его работой: в Понизовке, на дальнем конце бетонных пляжей, где огромная приземистая скала, ставит точку в их циклопическом движении, на набережной Ялты, где в течение двух часов были написаны два больших, почти метровых, холста, и в тихом октябрьском Гурзуфе.
В Понизовку вытащил нас Вячеслав Карелин, знакомство с которым стало для меня в буквальном смысле новым периодом жизни. Встреча с Карелиным состоялась за год или за два до появления Меринова. (Без Карелина тут никак не обойтись, потому что художники знали друг друга с конца 60-х, потому что их несхожесть так бросалась в глаза.)
Но вернёмся к Алексею. Мотив, выбранный им в Понизовке, был предельно прост. Он остановился высоко на тропе, после резких поворотов и крутых спусков неспешно сходившей к морю, а мы с Карелиным устремились ближе к воде, к живописному каменному хаосу. Сейчас этот сильно вытянутый горизонтально холст Алексея представляется мне лучшим из написанного им в то время.
Писал он удивительно быстро, приходя в особенное состояние. Что-то начинало просвечивать за его вполне заурядной внешностью. В нём словно открывался источник радости, магнетически действовавший на окружающих. К потоку живительной энергии тянулись женщины. С ним вступали в длительные беседы, происходил обмен адресами и телефонами.
Вообще, личная жизнь Алексея оставалась для меня закрытой темой. Знаю только, что до самого последнего времени его навещала некая дама из театрального мира, что, впрочем, никак не отражалось в его быту. Жил он как законченный холостяк.
Маленькая трехкомнатная квартирка в Нахабино, куда я был допущен далеко не сразу, оказалась загромождённой до последней степени. Едва находилось место, чтобы присесть за импровизированный стол – деревянную лавку, накрываемую по случаю гостя газетой. Эта же лавка играла важную роль в постановках для великолепных полутораметровых натюрмортов, которым хозяин посвящал всё свободное время. Особенно трудно приходилось зимой. Свет короткого дня не проникал в пространство рабочей комнаты, напоминавшей перевёрнутое вверх дном хранилище музея. Стены закрывали стеллажи, сколоченные из неструганных досок, на них вплотную друг к другу стояли пропылённые долгими годами предметы ушедшей народной жизни: самовары всех размеров и типов, утюги, невиданные керосиновые лампы, туеса, вальки, медные татарские сосуды, почерневшие от времени глубокие киоты, иконы, церковные подсвечники. На полу теснились могучие тёмного стекла бутыли, оплетённые берестой.
 Алексей почти не готовил. Максимум, варил картошку. Питался крайне скромно. Иллюстрацией его полного безразличия к вопросам быта служит эпизод из времён крымской жизни в 70-е годы. Остановившись в доме творчества в Соколином (времена были благословенные – комната стоила 20 копеек в сутки), Алексей так погрузился в работу, что на столе в горах мусора мышь вывела потомство.
Алексей почти не готовил. Максимум, варил картошку. Питался крайне скромно. Иллюстрацией его полного безразличия к вопросам быта служит эпизод из времён крымской жизни в 70-е годы. Остановившись в доме творчества в Соколином (времена были благословенные – комната стоила 20 копеек в сутки), Алексей так погрузился в работу, что на столе в горах мусора мышь вывела потомство.
По всей видимости, к этому периоду относится история столкновения с Карелиным. Вячеслав жаждал общения, жаждал событий, мощная его натура не находила исхода. Алексей вынужден был скрываться от настойчивых проявлений дружбы. Кончилось всё камнем, брошенным в окно посреди ночи.
Из его довольно скупых рассказов о том времени мне запомнился ещё один эпизод. Возвращаясь с пленэра в окрестностях Симферополя, художник втиснулся в троллейбус с большим, ничем не закрытым холстом (по всей видимости, это случалось не один раз) и перемазал много народу. Какой-то человек, не говоря ни слова, вытер испачканные в краске руки об его рубашку.
В середине 80-х Алексей ощутил нечто, заставившее его думать о переезде. Воспользовавшись первым попавшимся объявлением на столбе, с двумя железнодорожными контейнерами накопленных богатств – картин и утвари для натюрмортов – он оказался в крохотном рабочем посёлке Сычёво в 90 км от Столицы. А в скором времени – в Нахабино, где ему предстояло прожить более 30 лет. Крайний подъезд крайнего дома на Институтской улице и сейчас кажется самым глухим углом, какой можно представить.
В первые свои посещения, наблюдая больших пёстрых дятлов, соек и синиц, поочерёдно лакомившихся на балконе хозяйским угощением – салом и семечками, я думал, что попал в другое измерение. Здесь не было времени. Какая-то неизбывная мечта, сладкая печаль выматывалась из глубин сердца, возвращая к первоначальным смыслам, которые можно ощутить, и нельзя высказать.
В канун развала страны Алексею нет 50-ти, он бодр, активен (таким он оставался почти до самого конца, таким я увидел его в Алупке в 2009), участвует в крупных выставках. Его часто навещают сотрудники посольства Южной Кореи, покупают много работ. На художника обращают внимание местные чиновники, дают мастерскую в соседней Опалихе.
Его живопись меняется. В начале 2000-х гг. художник приходит к фактурному письму, построенному на ритмах крупных пастозных мазков, определяющих пространственную и цветовую основу изображения. Для этого периода характерно целостное видение. Детали растворяются в живом чередовании света и тени, плоскости и пространства. Важно то, что в этом, на первый взгляд брутальном и экспрессивном сгущении красочного слоя, категорически нет экспрессии и брутальности в современном смысле. Всё в этой живописи обусловлено зрительным восприятием. Линия, как нечто, насильственно отделяющее форму, перестаёт существовать – она лишь домысливается, возникает из синтеза отдельных мазков и крупных пятен. Вместе с тем, живописи Алексея Меринова свойственна внятная материальность, берущая начало в острой природной наблюдательности, глубоком знании немногих мотивов, к которым художник многократно возвращается в последние десятилетия жизни.
Избранные пейзажные мотивы он находит недалеко от дома – в заброшенном куске леса, примыкающего к посёлку. Не раз упоминал он и соседнюю станцию железной дороги – Малиновку. Здесь его привлекал мотив с лесным ручьём и переброшенным через него стволом дерева. Ездил он и в Москву, где за пару часов успевал напитать цветом два метровых холста. Чаще всего он писал Кремль. От угла Знаменки или с Большого Москворецкого моста, с того места, где бдительные стражи порядка оставляли его в покое.
Как существует абсолютный слух, так, без сомнения, существует абсолютное зрение. И Алексей обладал таким зрением и абсолютным чутьём на живопись. Авангард в любой форме для него не существовал. Тонкий инструмент, дарованный природой, не выносил произвола и разрушения. Именно Алексей не раз вспоминал, как Фёдор Захаров, гуру крымской живописи, прикрывал глаза, проходя мимо ярких картинок, выставленных на продажу.
Все картины художника
Источник: Статья И. Трофимова, январь 2019 г